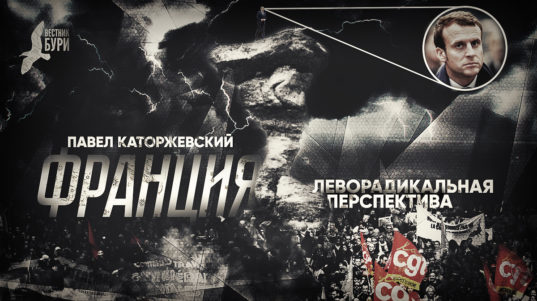В начале XX века социалистические революции в Европе проиграли. Но классовая борьба не закончилась, а значит и искусство, симпатизирующее левым идеям, никуда не делось. Просто стало принимать особые формы, зачастую антисистемные, андерграундные и артхаусные. Именно поэтому интересно наблюдать за западным про-левым кинематографом, так непохожим на фильмы в странах победившего социализма. Иван Пятаков в своей статье проводит обзор европейского левого и леворадикального кино, а также объясняет, почему этот кинематограф докатился до такого состояния, и что ждёт его в будущем.
Красный кинематограф

Кинематограф – одно из самых молодых искусств. С момента, когда 28 декабря 1895 года в «Гранд кафе» на бульваре Капуцинок в Париже братья Люмьеры показали изумленным зрителями движущуюся картинку «Прибытия поезда на вокзал Ла-Сьота», прошло уже почти 130 лет. За эти годы кино, согласно проницательным словам Ленина, превратилось в важнейшее из искусств. Кино создает образы реальности, мифологические структуры, которые определяют наше представления о тех или иных вещах, формируют наши эстетические и политические предпочтения. Кино предписывают модели коллективного действия и даже, используя выражение Мишеля Фуко, «практики себя»: например, благодаря бесчисленным голливудским фильмам каждый знает, что завтракать нужно тостом с арахисовой пастой, а в баре, согласно Джеймсу Бонду, следует непременно попросить «взболтать, но не смешивать» коктейль из водки с мартини. Поэтому говорить о левом кинематографе можно с двух точек зрения: первая оптика – это рассмотрение плана выражения, способов визуального сообщения, эволюции кинематографической формы, манипуляции с которой направлены на подрыв мифологической кино-реальности, служащей инструментом идеологии. Вторая оптика – это рассмотрение самого нарратива, в котором артикулируются проблемы сопротивления и борьбы, условно вопрос содержания.
Кино – это машина производства образов, не зря же Голливуд прозвали «фабрикой грез». Еще в 20-ые годы Ленин отметил огромный потенциал кино в работе с массовым сознанием. Волнующие образы подобны политической власти, ключевой вопрос, в чьих руках этот инструмент, и на службу какому делу идет. В статье 1923 года «Монтаж аттракционов» советский авангардист Сергей Эйзенштейн писал: «Аттракцион (в разрезе театра) – всякий агрессивный момент театра, то есть всякий элемент его, подвергающий зрителя чувственному или психологическому воздействию, опытно выверенному и математически рассчитанному на определенные эмоциональные потрясения воспринимающего». Эйзенштейн создал оригинальную теорию монтажа, согласно которой кино должно воздействовать (аттрактировать) на зрителя с помощью свободной и неожиданной смены кадров на экране, вовлекая зрителя в эмоциональное восприятие определенной идеи. В случае советского авангарда: Эйзенштейна, Дзиги Вертова, Кулешова, такой глобальной идеей должна была стать великая освободительная миссия социализма.
Уже в своем первом полнометражном (тогда кино еще было немое) фильме «Стачка» 1924 года Эйзенштейн показательно претворяет свою теорию аттракционов в жизнь. На экране перед зрителем предстают события дореволюционной России: на одном из заводов рабочие, последней каплей для которых стало самоубийство товарища из-за вопиющей несправедливости, восстают против невыносимых условий труда и всесилия фабрикантов. Объявляется стачка, которую хозяева завода с помощью разного рода провокаций стремятся сорвать. Наиболее показательна как раз финальная сцена, вернее то, как она сделана. На экране кадры, где казаки и полицейские, пришедшие на подавление выступления, расстреливают рабочих, стремительно перемежаются с кадрами бойни, где коровам перерезают шеи. Поразительное зрелище, недвусмысленно дающее понять, что нужно помнить пролетариям, отвоевавшим свою свободу.

Монтаж аттракционов, эффект Кулешова или же техника киноглаза Вертова – все эти приемы советских кинематографистов, родившиеся в пламени культурной революции авангарда 20-ых годов, быстро стали общим достоянием и были заимствованы идеологическими врагами Советской власти. Создав инструменты для эффективного и аффективного влияния на массовое сознание, эти приемы и техники послужили основой для оформления в том числе и пропагандистской и рекламной продукции, расцвет которой происходил уже в 30-40-ые годы в Соединенных Штатах и нацистской Германии.
Значительно позже, уже в 60-ые годы другой великий режиссер Жан-Люк Годар совершил еще один переворот в кинематографе. К тому времени голливудское кино стало тем, чем мы его знаем, прошел век «Золотого Голливуда» с его студийными театральными съемками и архитипическими сюжетами, которые должны неизменно оканчиваться хэппи эндами. Годар же, человек левых взглядов, одно время называвший себя маоистом, решил вывернуть наизнанку этот мифологический посыл голливудского кино, создающего иллюзии и пространство для эскапизма на фоне тяжелой и неустроенной жизни. Концепция хэппи энда была придумана во время Великой депрессии в США, чтобы дать людям надежду, создать иллюзорный мир. Мифологизация в голливудском кино – это феномен идеологии. В 60-ые годы появляются во Франции и в Германии такие теоретики как Маркузе, Адорно, Ролан Барт и Мишель Фуко, анализируя повседневные практики, феномены культурной гегемонии, приходят к утверждению, что идеология проникает в каждый уголок человеческой субъективности. Спасение одно – деконструкция, разрушение иллюзорных и мифологических структур, которые с помощью моделей поведения и образов вписывают человека в глобальную структуру потребления. Тем же самым – деконструкцией мифологии, но уже в кино – занимается Жан-Люк Годар. С помощью революционных технических и монтажных средств он стремится изнутри повествования надломить, подорвать иллюзию. Монтажный прием джем-кат, который использует Годар в своих ранних фильмах «На последнем дыхании», «Банда аутсайдеров», «Безумный Пьерро», нарушает гладкое и непрерывное кино-повествование. Кадры следуют друг за другом прерывисто, зритель понимает, что режиссер играет с ним, как бы подмигивает и говорит: «Это никакая не реальность, это просто кино». То же самое и с пресловутой четвертой стеной, разрушение которой приглашает зрителя к диалогу, разрушает монополию кинематографа на высказывание. Смотрящий в камеру герой Жан-Поль Бельмондо в фильме «Безумный Пьерро» обращается напрямую к зрителю, вытаскивая его из блаженных грез о вечной любви и победе над злом.

Французская новая волна подарила миру целую плеяду блестящих режиссеров, которые заложили основу принципиально нового киноязыка: Трюфо, Ромер, Шаброль, Луи Маль. Параллельно с ними действовала еще одна группа режиссеров, объединившиеся в так называемую «группу Левого берега», среди которых были Аньес Варда, Крис Маркер, Ален Рене. В своих визуальных экспериментах, пожалуй, они оказались даже более радикальными, нежели общепризнанные классики новой волны. Ручная камера, разрушенная четвертая стена, пересборка и игра с жанрами и ритмами повествования, кино-эссе, - все это привнесли в кино радикальные французские режиссеры. Их всех объединял журнал «Cahiers du Cinema» под руководством Андре Базена, который стал рупором левой французской интеллигенции. Май 68 начался с закрытия синематеки Анри Ланглуа, и в этих стихийных и слабо-организованных протестах тот же Годар был в первых рядах. Удивительный момент в истории, сравнимый разве что с советским авангардом, когда революция культурная, создание новых способов обращения с визуальными образами, слилась с революцией, пусть и проигравшей, на городских улицах под красными флагами.
Разумеется, и Эйзенштейн, и Годар не только люди левых взглядов, но и самые настоящие революционеры, определившие стратегии эстетического сопротивления. Однако, как правило, кино работает как репрезентация. Революционеров мало, а вот режиссеров, которые видели своей целью запечатлеть и передать свой эстетических опыт переживания революции или же опыт рефлексии над историческими событиями, предостаточно. Наиболее характерным явлением в репрезентации левого дискурса мне представляется целая группа итальянских режиссеров 60-70-ых годов минувшего века, многие из которых стали наследниками феномена итальянского неореализма, который расцвел на Аппенинском полуострове в послевоенные годы. И если представители неореализма (Росселини, ранний Висконти, Де Сика, Де Сантис) в аскетичном стиле стремились с позиции социальной критики запечатлеть тяготы «маленького человека», чья жизнь была разрушена мировой войной, то их наследники (Висконти, Феллини, Пазолини, Антониони, Бертолуччи) были значительно радикальнее в своих кино-опытах.
В кинематографе Лукино Висконти можно найти черты высокого европейского модернизма: такие эпические полотна как «Леопард», снятый по мотивам романа Джузеппе Томази ди Лампедузы, и «Гибель богов» во многом наследуют традиции больших семейных романов Томаса Манна или Джона Голсуорси. В «Леопарде» перед зрителем предстают картины распада старой итальянской аристократии под натиском стихии нового века – промышленной буржуазии. Мотив, хорошо знакомый классической русской литературе. «Гибель богов» же идет дальше: мы видим семью крупных немецких промышленников, прототипом для которой, очевидно, стало семейство Круппов - семью, в которой, словно в змеином гнезде, каждый пытается уничтожить другого. Но также мы видим и настоящий психоанализ фашизма. В 1955 году Герберт Маркузе опубликовал знаковую работу «Эрос и цивилизация», которая наряду с работами Вильгельма Райха заложила основы социального психоанализа. Именно через эту призму, на примере буржуазной семьи фон Эссенбек, Висконти пытается отыскать корни коричневой чумы в тех садистических перверсиях, которые, обретая политическую волю, способны привести человека в лабиринт бараков концлагеря.

Марксистский психоанализ в 60-70-ые годы становится доминирующим критическим дискурсом, призванным отыскать глубинные травмы самого обычного человека, который оказывается бессильным перед фигурой тотальной власти, которая подавляет и расщепляет его субъектность. Несомненные влияния фрейдо-марксистского дискурса можно обнаружить и в фильме «Ночной портье» Лилиан Кавани и в фильме «Конформист» Бернардо Бертолуччи. «Конформист» 1970 года, снятый по роману Альберто Моравиа становится важной вехой в осмыслении и репрезентации итальянского фашизма. Главный герой Марчелло – человек непростой судьбы: он вырос в неблагополучной семье и подвергся сексуальному насилию в раннем подростковом возрасте. Жизнь Марчелло – это поиск спокойствия, поиск пресловутой нормальности: стабильная работа, добрая жена, тишина за окном. Поступая на службу к фашистам, он преследует самые обыденные и мещанские цели, поэтому вынужден мириться с окружающими порядками. Постепенно втягиваясь в рутинную жизнь чернорубашечников, Марчелло получает задание устранить семью известного профессора, сбежавшего во Францию от диктатуры Муссолини. Кульминация фильма, которая всецело оправдывает его название, - шокирующее оцепенение Марчелло, смотрящего сквозь стекло машины за убийством тех людей, которые были ему близки. Патологический конформизм, вызванный страхом перед садисткой властью, чей образ мы видим в лице того насильника из детства Марчелло в последних кадрах фильма.
Пожалуй, еще более показательны фильмы Пьера Паоло Пазолини. Особенно «Сало, или 120 дней Соддома», где героями знаменитого романа маркиза Де Сада становятся фашистские чиновники и священнослужители. Весь кинематограф Пазолини – это рефлексия над бедностью, аскетизмом, самопожертвованием, сексуальностью и властью, стремящейся эту сексуальность подчинить и предписать. Для Пазолини освобождение социальное невозможно без освобождения духовного, символ которого он видит в аскетичном образ Христа, принесшим избавление: ни раба, ни господина. Так он пишет в стихотворении «Настоящий Иисус придет»:
«Был парнишка, который умел мечтать,
синий парень был, как спецовка.
Настоящий Иисус придёт, рабочий,
и научит по-настоящему мечтать»
Судьба самого Пазолини крайне примечательна: гомосексуал, убежденный марксист и ревностный католик, удивительно тонкий поэт, проницательный теоретик и скандальный режиссер, он погиб в 1975 году от рук юных неофашистов, не успев завершить трилогию смерти, начатую фильмом «Сало…». Погиб Пазолини в разгар уличной гражданской войны, которая в 70-ые годы распространилась по всей Италии: неофашистские террористические группировки, неформально поддерживаемые итальянской властью, боролись против леворадикальной организации «Красные бригады», объединившей значительную часть марксистской интеллигенции, интеллектуалов и рабочих. Именно городские герильи в Италии и ФРГ становятся новым источником рефлексии о классовом неравенстве и перспективах борьбы против глобального капитализма. Например, в 1977 году выходит фильм Дамиано Дамиани «Я боюсь», в котором через призму жанрового своеобразия детектива демонстрируются причинные взаимосвязи уличного терроризма, ведущие прямо к крупным итальянским должностным лицам. Разумеется, свое отражение в кинематографе нашел и самый известный террористический акт «Красных бригад» - похищение и последующее убийство в 1978 году премьер-министра Италии Альдо Моро. Об этом знаменитый фильм «Дело Моро» 1986 года, в котором социалист Джузеппе Феррара с документальной точностью восстанавливает события поворотного в итальянской истории момента.

Важнейшей вехой в истории «красного кинематографа» становятся фильмы немецких режиссеров - современников левых террористов из Фракции Красной Армии. Оккупированная после поражения во Второй Мировой войне Западная Германия стала местом наиболее интенсивного противостояния правых и левых. Загнанные в угол левые интеллектуалы из знатных немецких семей последовали лозунгу журналистки Ульрики Майнхоф и перешли от протеста к сопротивлению. Угоны самолетов, ограбления банков, курсы военной подготовки на Ближнем Востоке и, как итог, инсценировка самоубийства в тюремной камере Штаммхайма в октябре 1977 года. Уже в следующем 1978 году вышел фильм «Германия осенью», объединивший практически всех главных западно-германских режиссеров новой волны. В своих зарисовках Фассбиндер, Шлёндорф и Клюге рассуждают о героях своего времени, решившими в одиночку своими силами противостоять монополии на насилие буржуазного государства. Меланхолия, который проникнут весь фильм, исключает донкихотовскую иронию, иронию человека, пошедшего воевать с мельницами. Режиссеры, симпатизирующие казненным городским партизанам, осознают безысходность их положения: городская война – симптом отчаяния.
Уже в фильмах режиссеров немецкой новой волны ощущается изменение акцентов. «Свинцовые времена» Маргареты фон Тротты, обращаясь все к той же теме Фракции Красной Армии, смещает угол зрения: ее герой – Гудрун Энсслин, сильная женщина, готовая взять ответственность в свои руки. В самом нарративном построении заметно, как образы героического сопротивления и радикальной надежды сменяются отчаянием и безвременьем, а искомое пространство эмансипации смещается с вопроса классовой борьбы в сторону пространства телесности. Уже в «Свинцовых временах» героиня фон Тротты скорее сильная женщина, актуализирующая представление о женской эмансипации, чем левая террористка, мечтающая сбросить ярмо глобального капитализма. Именно в силу этого разочарования очень тяжеловесно и несвоевременно выглядит фильм «Капитал», который снял Александр Клюге, осуществив задумку горячо любимого им Сергея Эйзенштейна.
Если чем и примечателен немецкий левый кинематограф послевоенных лет, то настроением неминуемого поражения, выливающегося в декаданс. Олицетворением и выразителем этого декаданса, конечно, стал Райнер Вернер Фассбиндер, чья жизнь оборвалась в 37 лет от передозировки кокаином. Фассбиндер был объявлен симпатизантом террористов из РАФ, чью революционную деятельность он отразил в черной комедии «Третье поколение», за что и подвергся травле. Кино Фассбиндера – это симптом. В своей «женской трилогии» режиссер рисует судьбу послевоенной Западной Германии в трех женских образах: героини этих фильмов несчастные и одинокие женщины: у героини «Замужества Марии Браун» муж на фронте, а она находит неравный, но выгодный брак, Вероника Фосс – забытая всеми актриса, убивающая себя опиоидной зависимостью, а Лола из одноименного фильма – ведущая двойную жизнь проститутка. Такой образ Германии рисует Фассбиндер, не подозревая, что ни протеста, ни сопротивления впереди ожидать не стоит.

С утверждением в 70-ые годы в философском мейнстриме постструктурализма – неоднородного философского течения, подвергающего критике всякую иерархизацию, - вопрос о сопротивлении капиталистической гегемонии смещается в пространство телесности и разрозненных и подвижных гетерогенных структур. Это значит, что невозможно больше мыслить глобальными нарративами: будь то Бог, государство или человек. На смену рассмотрения этих метанарративов приходит изучение частных феноменов, отдельных структур: начиная с безумия и заканчивая образовательными практиками. Именно с работ Мишеля Фуко идет всестороннее увлечение феноменом власти, которая располагается не только на уровне классовой иерархии, но и в пространстве любых иерархизированных отношений: будь то взаимоотношение мужа и жены на кухне, черных и белых на рабочем месте или же учителя и учеников в школе. Параллельно с развитием постструктуралистской мысли происходит постфордистская революция. Термин «постфордизм» в политический дискурс вводят итальянские операисты как характеристику трансформации классической модели эксплуатации во время рабочего дня в эксплуатацию, которая стремится задействовать все пространство человеческой субъективности. В работе “Нематериальный труд” Лаццарато пишет: «То, что раньше решалось предписыванием и вменением задач, теперь превращается в предписывание самой субъективности». Неудивительно, что в таких обстоятельствах и само левое движение претерпевает расщепление и угасание, и кинематограф, держащий руку на пульсе, смещает свое внимание на проблемы насилия, гомосексуальности, дискриминации. Удивительным примером расщепления этих границ и тщетности их пересборки стал фильм Ларса фон Триера «Идиоты» - эталонный пример постмодернизма в кино. Группа хиппующих бунтарей решает, что противостоять логике потребительского общества можно в пространстве разума и неразумия. Они притворяются умалишенными, а им все сходит с рук: тут и проблема стереотипов, и избыточность пресловутой толерантности, и граница реальности и имитации, и тотальное разочарование в сопротивлении. Борьба сменяется вопросом эмансипации, вместо освобождения – легитимация: признания определенного феномена в качестве нормативной практики – это хорошо заметно на примере феминистского движения или ЛГБТК+. О прежних формах борьбы остается только мечтать.
В этом отношении характерен фильм «Мечтатели» 2003 года уже пожилого Бернардо Бертолуччи, в котором он предается сладкой старческой ностальгии по временам своей юности, когда Париж был наполнен студентами с красными флагами, кричащими «Вся власть воображению!» и «Запрещать запрещено!». Нарочито постмодернистская картина, где все действие фактически локализовано в пределах шикарной квартиры, в которой научаются сексуальности трое молодых людей, пока из внешнего мира к ним не прилетает камень бушующей за окнами реальности. Борьба спектакуляризируется, помещается в «инстаграмную» картинку, становится похожей на открытку с Эйфелевой башней: безопасной и манящей, как и всякий красивый и хорошо сделанный продукт. Таков и фильм Филиппа Гарреля «Постоянные любовники» - старческая ностальгия по ушедшему золотому веку.

Спектакуляризация и обращение к феномену «золотого века» говорят лишь о том, что тот язык, кино-язык, которым прежде можно было говорить о левом сопротивлении, исчерпал себя. В первые десятилетия XXI века новый язык лишь начинает складываться, и мы стоим у самых истоков того, как сегодня можно репрезентировать и артикулировать устремление к ниспровержению неолиберальной идеологии. Здесь крайне интересен феномен Румынской новой волны: с момента своего появления во второй половине нулевых группа никому не известных румынских режиссеров успела создать свой неповторимый стиль. Холодный минималистичный реализм с капелькой грустной иронии, личные истории маленьких людей, которые связаны с большой Историей лишь тем, что страдают от ее изломов. В 2019 году вышел фильм, который в русском переводе называется «Безумное кино для взрослых», режиссера Раду Жуде. Преодолев общий для всей румынской новой волны и в целом для европейского авторского кино стиль критического реализма и микрополитики, Жуде обращается к технике бриколажа, словно наследуя концептуальным построениям Делёза и Гваттари. Бриколлаж – техника собирания из подручных элементов - будь то кино-хроника или кадры из другого фильма – нового произведения, в котором использованные элементы наделяются совершенно иным значением. «Безумное кино для взрослых» - это и кино-эссе с реминисценциями классиков марксизма, и черная комедия, сталкивающая зрителя в пучину паранойи, и очерк истории диктатуры Чаушеску, и социальная драма человека, который борется против общественных репрессивных устоев за право быть самим собой. Вероятно, именно этот путь – собирание разрозненных осколков реальности, удерживание вместе вроде бы разделенного и диссонирующего способно открыть возможность для неотчужденного поистине революционного высказывания сегодня.
Разумеется, в мире много интересных режиссеров, которые критически работают с тем материалом, который дает экономический кризис, отчуждение в глобальном мире, разрушение всевозможных форм кооперации, страшные войны в разных уголках мира и вереницы вынужденных переселенцев, а также восстания против невидимого Голиафа неолиберальной гегемонии. Здесь и молодые греческие режиссеры, вдохновленные пламенным анархистским движением (например, эпическая «Родина» Цумеркаса и «Утраченная молодость» Пападимитриопулоса), и престарелый Кен Лоуч, который продолжает исследовать изнанку британского общества под увеличительным стеклом кинокамеры, и неутомимый Коста Гарвас, который все еще работает в жанре политической драмы, и, конечно же, братья Дарденны, занятые микрополитикой, и биографические оммажи – как выражение признательности - великому Че от Саллеса и Содерберга. Но есть, например, и молодой немецкий режиссер Юлиан Радльмайер, который в «Самокритике буржуазного пса» в манере сюрреалистической комедии перформативно спутывает различные пласты реальности вокруг вопроса об обладании: собственности и власти. Не менее интересен и фильм «Кровопийцы» 2021 года того же Радльмайера, в котором тот, наследуя Брехту, с помощью абсурдистских диалогов создает визуальную метафору капиталиста-вампира. Свободно обращаясь с временным рядом, режиссер заигрывает и с немецким кино-экспрессионизмом, и с годаровской классовой сатирой, и с тяжеловестным немецким романтизмом. Маскируясь за декорациями 20-ых годов, фильм лишь подчеркивает не утрачивающие актуальности вопросы классового неравенства, неравномерного перераспределения и гегемонии изжившей себя буржуазной культуры.

Нельзя обойти стороной и шведского режиссера Рубена Эстлунда, который в двух своих последних фильмах «Квадрат» и «Треугольник печали» также прибегает к беспощадной сатире, стремясь указать на болевые точки буржуазной мифологии. Новые вызовы требуют новых концептуальных решений. Концептуальных решений, резонирующих с тем интеллектуальным и политическим контекстом, в котором мы оказались в третьем десятилетии XXI века. Постмодернизм с его намеренно безответственным скольжением по пространству знаков подошел к пропасти, за которой слово/кадр/образ может стать оружием, может убить. Сегодня левому режиссеру нужно быть свободным внутренне и открытым иному, но главное ему стоит помнить сформулированный Вальтером Беньямином в далеком 1934 году постулат: автор – это производитель, и «его решения происходят на основе классовой борьбы, когда он встает на сторону пролетариата».